Женщина того города (часть 2)
3
Раньше было другое время. Кроме того, что все обстоятельства жизни были другими, сама эта жизнь текла иначе, как бы пульсируя. Под бой колёс, при тусклом свете дежурной лампы Марина вспоминала прежнюю жизнь...
Она жила с матерью в тесной и старой квартире на окраине Петрозаводска. Ей было семь или восемь лет. Если какая-нибудь широко раздавшаяся старуха, из тех, что всегда занимали лавочку у подъезда, спрашивала её, сколько ей лет, она так и отвечала: «Семь или восемь». И пока она говорила это, время замирало, позволяя насытиться всей полнотой момента и запомнить цвет неба и запах сирени, участливую улыбку, дряблые руки, и толстые, в синих звёздах, ноги старухи. И сразу затем течение времени становилось стремительным, так что теперь нельзя было припомнить всех тех печалей и радостей, какие оно вобрало в себя. Но к новогодним праздникам время сгущалось и, проживая его заново, Марина как наяву видела колючую ёлку, свеченье гирлянд, яркий блеск мишуры и конфетных обёрток, счастливое лицо матери. И затем время снова вытягивалось и ускользало, так что она никак не могла отыскать его примет в памяти. Чем старше она становилась, тем быстрей текло время. А теперь ей сорок три года и то время, которое ей осталось, по-видимому, много разбавлено.
Сейчас же по приезде она решила отправиться к дому, в котором жила когда-то. В тяжёлые девяностые годы мать её обменяла квартиру, и нового адреса предпочла дочери не показывать, но у Марины оставалась надежда разузнать его от старых соседей. Если же и среди них не найдётся того, кто б оказался полезным ей, Марина хотела пойти в паспортный стол, хотя — она понимала это — и тяжело ей было бы посвящать посторонних в детали семейных дрязг...
Туманным пасмурным утром Марина прибыла в Питер. Там пересела на автобус до Петрозаводска. Долго тряслась на заднем сиденье, разглядывая унылые карельские пейзажи. Грязный пазик не спеша катился по лужам и всякий раз при переключении передачи из утробы его, как из утробы смертельно больного, доносился неприятный скрежещущий звук. На стоянках Марина выходила курить, покупала что-то; на полпути задремала...
Двор, в котором она играла раньше, не стал красивее или чище. Всё также гнили под липами приземистые сараи и также ныли ржавые качели, те же бабки сидели возле подъезда, и та же мозаика из кусков асфальта валялась у ног их. Марину остановил любопытный старческий хрип:
— Вам кого?
— Здравствуйте, мне бы с хозяевами сорок четвёртой квартиры переговорить.
— Это тебе к Зорихину надо...
Старухи заговорили наперебой и одна из них, сидевшая на краю, вдруг встала и поплелась к сараям. Спустя минуту она вернулась, а за ней выполз белоголовый дед с отвисшей губой. Неухоженный, во власти слухового аппарата, под тяжестью фуфайки дед умилял и ужасал одновременно. Марина склонилась к уху старика и спросила, стараясь говорить внятно:
— Вы в какой квартире живёте?
Старик закивал в ответ, по-видимому, давая понять, что вопрос им услышан. Потом преувеличенно громко заговорил:
— В сорок... ч.. четвёртой... я ж... в со-роч-вёрто... ж.
— Давно сюда въехали?
— Так... Почитай, лет десять... чи-та-ле... д-ся
— С Ерусовой менялись?
— А-а?
— Фамилию прежних владельцев знаете?! Вспомните! Ерусова Алина Сергеевна!
— Ага, ага... так ч-что... жи-ла-ту...
— Какой у неё адрес теперь?.. Ваш? Старый?..
— Ага... Это... — прищурив слезившиеся глаза, дед ворошил память, — Улица-то Судо-с-строительная... Дом двадцать два, квартира — шестнадцать... ли... ваца... ш-аца... Он начинал отвечать бодро, но к середине произносимого предложения интонации его становились неуверенными, а к концу и вовсе переходили в бессвязный шёпот. У собеседников его всегда создавалось впечатление, что дед, говоря что-то, тут же поверяет себя вопросом: «А верно ли я сказал?»
— Ясно. Спасибо вам.
Дед снова закивал, зашамкал губами, повернулся и исчез между сараев. Марина тоже двинулась прочь. Старухи кричали ей вслед, желая узнать что-нибудь о её жизни или с какой целью она искала хозяев сорок четвёртой квартиры, но она, уходя, не думала, не оборачивалась, ничего не желала слышать.
Скоро сошла она с подножки ржавой маршрутки в новом районе. Был ветреный ноябрьский полдень. На деревьях галдели птицы. С востока сплошным потоком плыли зеленоватые облака. Марина без труда нашла невзрачную типовую пятиэтажку за номером двадцать два. Она собралась было сразу же взойти на этаж, и нажать кнопку звонка, но не смогла выдумать, что будет говорить, если ей отворят дверь. Как представиться? Что соврать? Нужно ли врать, или сразу сказать всю правду? Потому она долго блуждала по тротуару; курила; вглядывалась в лица жильцов, заходивших в подъезд или выползавших наружу; хотела напиться до беспамятства; потом отвлеклась, задумалась; читала объявления на столбах и облупленных стенах. Одно привлекло её: «Молодая русская семья снимет квартиру в вашем доме. Порядочность. Оплата своевременно. Телефон... Спросить Богдана.»
— Снять жильё. Надо же снять жильё, где-то неподалёку, — догадалась Марина. Объявлений о сдаче в аренду на двери не было, и она решила походить по округе, найти ларёк или магазин, купить газету с рекламой и поискать что-нибудь подходящее в ней. Она уже пошла прочь, но сделав всего пару шагов, заметила на стене соседней пятиэтажки крупными буквами выведенное «СДАЮ!» В тексте объявления помимо прочего сообщалось, что предлагаемая квартира находится «в этом» доме. Не было никакой нужды в том, чтобы тратить время на поиски лучшего варианта: Марина набрала указанный номер и договорилась о встрече. Спустя несколько часов, проведённых в ожидании владельца, разбирательствах относительно паспортов, прав собственности, условий аренды и прочего, Марина сидела в пустой чистой кухне, обедая наспех сваренной кашей. В окна её квартиры был виден фасад дома, в котором, — если глухой старик не соврал и не перепутал чего-нибудь — жила её дочь. Разговаривая с хозяином, приготовляя обед, она не переставала думать об этом.
Узнаю ли я её, если увижу вдруг? Как она выглядит, как живёт?.. Ей должно быть немного за двадцать, она ещё по-детски должна радоваться жизни, верить людям, и не сложно, наверное, будет узнать её... Если она хоть чуть-чуть похожа на меня, если чувство, которое я теперь испытываю, поистине материнское, я вспомню её. Обязательно вспомню...
Улица за окном стала меркнуть. Пикнули часики на руке. Сигареты кончались, и нужно было идти в магазин. Марина, не зная чем занять себя, уселась на табуретку, уперлась локтями в подоконник и постаралась выявить какое-нибудь узнаваемое движение в качениях силуэтов, которые являлись по временам в окошках дома напротив. Правильные квадраты чайного или жёлтого цвета то зажигались, то растворялись в сумраке вечера, люди возникали и исчезали в них или подолгу стояли, не двигаясь, и всё это в целом походило на какую-то командную игру, в которой Марине предлагалось водить...
Так, у окна, и задремала.
4
Очнувшись посреди ночи, стала бродить из угла в угол, пила кофе, много курила. Нашла в кладовке старый бинокль, высчитала окна квартиры, которая должна была принадлежать дочери и теперь хотела понять, полезно было предпринятое ею, или нет. К утру стали зажигаться свет. Марина рассмотрела заспанного парня в трусах — тот вошёл, поставил на плиту чайник, полез в холодильник. Должно быть чей-то друг, муж, сын, сожитель. Парень приоткрыл окно, закурил. Скоро, закутанная в халат, на кухню явилась девушка. Молодые пили утренний чай, разговаривали и хихикали, и когда хихикали, Марина улыбалась заодно с ними. Потом парень исчез, а в квартире номер 16 зажглось ещё одно окно, — к великому сожалению Марины — плотно зашторенное. В кухне долго никто не показывался, и она отложила бинокль.
Помалу небо над крышами прояснялось, синевы в тонах и полутонах улицы становилось всё меньше, становились заметными вздрагивания голых веток и частые переползания палой листвы. Кофе, сваренный Мариной, уже не парил и не давал запаха; в продолжавшейся тишине отчётливо слышно было гудение труб отопления. Несколько раз Марина замечала мельтешение в кухне, но не успевала поднести бинокль к глазам, чтобы рассмотреть, чем оно вызвано. Потом свет в окнах погас и во двор вышли двое — ребёнок и взрослый.
— У них ребёнок?
Рассвело. День обещал быть таким же холодным. Вдобавок несколько раз начинало капать так, что не будь вблизи двух огромных озёр, с их беспокойным нравом, город, вероятно, залило бы дождями.
Марина поела вчерашней каши и решила пройти вдоль улицы. Её привлекли крики детей, доносившиеся из-за дороги сквозь шумы моторов. Пойдя на эти крики, она оказалась возле детского сада. Малыши резво бегали среди вкопанных горок и скамеек или изображали, как волнуется море и какие причудливые формы могут приобретать морские фигуры от подобных волнений. Это были старые игры. Те самые игры, в которые и Марина играла, когда была маленькой.
— Море волнуется раз! — пищали детские голоса.
— Море волнуется два... — шептала Марина, затягиваясь сигаретой.
— Море волнуется три! — звенел хор малышей, как бы в предвкушении шторма.
— Старая дура — умри... — равнодушно добавляла Марина и уходила, чтобы через десять или пятнадцать минут снова оказаться возле забора и исподволь наблюдать за играми ребятни.
Она выбрала в толпе симпатичную девочку, занятую пересыпанием песка из ведёрка в варежку, из варежки в ведёрко, и назначила её своей. Присела на занесённую листвою скамью и долго играла роль ожидающей; мёрзла; курила; оглядывалась; пускала на ветер вздорные жалобы; потом ушла. Обедала в чайной. (Стряпать самой — не было ни сил, ни желания.) Затем снова блуждала по улицам. Ей захотелось узнать наверняка, какой фамилией подписываются жильцы квартиры за номером 16, мирно ль они живут и чем наполняют свой быт. Придумала поговорить с кем-нибудь из соседей. Пошла к дому, поднялась на этаж, постучала.
— Здравствуйте. Извините, что потревожила. Я из управления соцзащиты... — зачастила Марина, в узкую щель, открывшуюся меж косяком и дверью. (Из щели опасливо выглядывал чей-то глаз.) — Мне бы с Алиной Ерусовой поговорить...
— Вы ошиблись. Здесь такие не живут. — сообщил бесстрастный голос из сумерек.
— Странно, у меня этот адрес записан... У вас какая квартира?
— У меня пятнадцатая... Кто вам нужен-то?
— Я же говорю: Ерусова, Ал...
— Таких нет.
Щёлкнул замок и вмиг ставший далёким голос подвёл итог состоявшемуся разговору: «Да квартирой ошиблись!» С минуту Марина топталась на месте. Можно было бы разыграть тот же спектакль перед жильцами 13 и 14 квартир, и от них уже доподлинно выяснить имя и возраст девушки, которую она наблюдала, но Марина вдруг испугалась чего-то. Испугалась что, и остальные ей скажут — «таких нет», или ещё хуже — «жила здесь раньше, но уехала; где теперь — неизвестно.» Тем не менее уйти не получив ответа на свой вопрос, она не могла. Знала, что не уснёт. Поэтому она решила, стоя на лестнице, дожидаться прихода виденной утром девушки, чтобы посмотреть на неё вблизи — узнать дочь и в этом случае порадоваться за неё или же увериться в том, что ошиблась и оттого расстроиться ещё больше. Она встала на площадке между вторым этажом и третьим, нашла консервную банку-пепельницу, задымила...
К пяти часам гул, создаваемый натруженными за день ногами жильцов, звучал почти без перерывов. Тут и там хлопали двери, завязывались непродолжительные беседы, распространялись запахи приготовляемой пищи. Марина старалась замечать лица входивших людей, пока те, глядя под ноги, поднимались по грязным ступеням. Когда же, поднявшись, они в свою очередь начинали изучать Марину, та отворачивалась к окну.
Снова щёлкнул кодовый замок на входной двери и коридор наполнился писком ребёнка:
— ...ина просто так сидела. Она... не играла...
— Надо было сказать Татьяне Сергеевне...
Марина замерла и уставилась в полутьму над лестничным маршем: девушка, высокая, в долгом пальто фиолетового цвета, узкие скулы, чёрные, подкрашенные брови, помада неяркого оттенка. Внешне девушка не была на неё похожа, но было что-то знакомое в интонации, с которой та произносила слова. Это заставило Марину нервничать, и она поспешила отвести взгляд в сторону, забыв хотя б мельком изучить внешность ребёнка. Увлечённые разговором, мать и дочь прошли мимо. Выждав немного, ушла к себе и Марина.
Вопрос, досаждавший ей, так и остался нерешённым. Она по-прежнему ничего не знала о девушке из 16 квартиры. Сидя за кухонным столом, Марина раз за разом оживляла в памяти лицо, мелькнувшее перед глазами, и пыталась соотнести его то с детским личиком Алинки (у неё был один-единственный снимок дочери), а то со своим лицом на фотографиях двадцатилетней давности. Занятие это казалось ей бесполезным, но спать она не могла, и делать всё равно было нечего...
В карманах альбома покоилось её прошлое. Каждый снимок сообщал памяти некие сведения. Москва, Крым, вылазки на природу, годы замужества...
Марина нашла фото дочери. Двухгодовалая, она стояла у клумбы, сжимая куклу. Зарёванные глаза, пухлые щёчки, выбившиеся из-под платочка волосы и выражение на лице такое испуганное, точно фотограф застал её за шалостью и вот-вот должен обругать. Только такой Марина и знала её всю жизнь...
На других снимках были запечатлены веселья и празднования. То пьяные безобразные морды гуляющих лезли на первый план, а то бывшие её приятельницы позировали, опираясь на капоты автомобилей своих сожителей; наконец — сама она, танцуя, глупо улыбалась чему-то, нагибалась к объективу, чтобы в вырезе видна была её грудь. Сильные руки тянулись из-за кадра, обнимали её, шарили под платьем. Теперь она и вспомнить не могла многих мужчин и женщин на этих изображениях, но все они были одинаково омерзительны ей.
В сорок три года... Другие пьют, гуляют и живут до старости... А у меня в сорок три — рак... И где эти годы?.. Первое время хотела быть при деньгах, уехать куда-нибудь... Хотела... хотела жить беззаботно, на широкую ногу, чтобы перед смертью было что вспомнить, а и вспоминать нечего кроме б...
Она встала, пошла к окну. По жести подоконника редко стучал дождь, заупокойно выл ветер. Чёрные острые контуры антенн, проводов, ветвей, асинхронно двигаясь, разили и резали напитанные теплом и светом окна в доме напротив. Хотелось думать, что в доме этом обитают другие, счастливые люди, познавшие родительское и сыновнее чувство; хотелось думать, что там властвует иная мораль, иная система понятий; хотелось верить, что прощение возможно и достижимо...
Марина решила, что она должна и может именно теперь всё узнать. Она почувствовала определённо, что недавняя душевная боль, причины которой всё время казались неясными, усиливается, нарастает и готова хлынуть наружу в виде молитвы или истерики. Сдерживая слёзы, Марина оделась, собрала вещи, — даже в случае неудачи она не хотела возвращаться сюда — и пошла к соседнему дому. Поднялась на четвёртый этаж, прислушалась, занесла руку. Надо звонить... Звонить!.. А что сказать? Здравствуйте, я ваша т... Кто? Тётя? Мама? Кто?.. Никто...
Постояла, подумала. Почувствовала головокружение, тошноту, слабость, и горечь во рту как при отравлении, — вытянула руку, ища опоры, налегла на перила, не зная как поступить. Потом разочарованно рыдала и сострадательно себя ненавидела, как если бы снотворное, которое должно было её убить не подействовало; потом курила до одурения, как бы прочищая горло, схваченное отёком; потом встала, и утираясь, поплелась вниз.
5
Ночью Марине снились чужие люди. Во сне она так и думала о них: «чужие люди». Они толпились вокруг неё и всё о чём-то спрашивали. И она до поры отвечала им, смеялась с ними. Но потом от обилия пустых слов у Марины заболела голова. Она побежала по воде, зажав уши, а слова, обращались в птиц и преследовали её. Она бежала до тех пор, пока не увидела перед собой образ, верней не образ, а некое его подобие. Это должен был быть силуэт Мадонны. Укрытая широкой чёрной накидкой, Мадонна держала на руках младенца. За её спиной совершался странный круговорот. Рождались люди. Светлые, чистые от природы они быстро обманывались, и, обманутые, долго и безутешно плакали. Затем они усердно искали Зла, учились любить его, прививали его себе и доводили себя до безумия, а став безумными вешались или спивались, оставляя после себя уязвимое к Злу потомство. Она увидела этот цикл разом, скорее не увидела, а поняла его и также она поняла, что женщина, кормившая грудью своего малыша, не была такой как они все, — она как бы не замечала, не участвовала в происходящем. Тайна материнства оберегала её, и она в ответ, как единственную действительную драгоценность, берегла эту тайну. Но затем Марине почему-то стало жутко неуютно. Она заметалась туда-сюда вдоль русла, сбила воду (которая вдруг оказалась вязкой и тёплой) в один большой плотный комок, потом начала мёрзнуть и оттого проснулась. Лёжа на спине, какое-то время, просто разглядывала потолок. Потом перевела взгляд на стену, со стены на окно. Мутное пятно света на занавеске: видимо выпал снег. Суббота. Она встала, умылась, закурила и уже по привычке села возле окна.
Заоконный термометр показывал минус три градуса, но ветра, похоже, не было, как, впрочем, и солнца. Хмурое октябрьское утро.
Уже горел свет в квартире номер 16, уже пили чай её жильцы, уже стояло что-то на мягком голубом блюдце из газа. И никто никуда не спешил, всё делалось с удовольствием, лишь та, что должна была быть её дочерью, часто подходила к окну, как будто ожидая важных гостей, или раздумывая, что на себя надеть, чтобы не простудиться.
Марина интересовалась лишь тем, что происходило в двух окнах второго этажа, да ещё следила за жильцами, если кто-то входил в подъезд или выбирался на воздух. И оттого она не сразу узнала в крохотном человечке, увлечённо покорявшем неглубокие перемёты под домом, того самого малыша, чей голос она слышала прошлым вечером, стоя в подъезде. Она, конечно, приметила его, когда подошла к окну, но почему-то мысль о том, что это может быть близкое ей существо, не посетила её тогда. Теперь же, сообразив, что заставляет девушку из 16-й, так часто выглядывать во двор, Марина захотела спуститься и посмотреть на этого ребёнка, такого чужого и в то же время такого родного, вблизи. Она оделась и вышла на улицу — в городе было до странного тихо.
Сесть на скамью, вкопанную посреди детской площадки, Марина не решилась. Вместо этого она неторопливо пошла вдоль дома, изучая на ходу копавшуюся в снегу девочку.
Ах, как же она была похожа на её двухгодовалую дочь! Если бы устроитель вселенной обратил время вспять, тем самым подарив ей возможность видеть свою дочь в том возрасте, в каком она была запечатлена на снимке, то её дочь без сомнения была бы этим ребёнком, гулявшим здесь и сейчас. Ребёнок блуждал один посреди нового белого мира, и оттого что мир этот был так невероятен и чист, Марина испытала обжигающе-сильное чувство, что-то навроде жалости. Укоряя себя за то, что она вторглась сюда и осквернила эту непорочную землю, Марина присела невдалеке от игравшего малыша. Удивлённый ребёнок поглядел на неё открыто, как будто знал, кто она, и как будто весь Свет уже знал, кто она... Марина закрыла глаза, чтоб не заплакать. Слёзы, — одна, другая, третья, — склеивали выбивавшиеся из-под шапки волосы. Дрожащей рукой Марина никак не могла убрать мокрые пряди: те всё равно спадали на лоб, когда она поправляла шапку. Теперь, если бы вдруг выяснилось, что этот малыш не имеет к ней никакого отношения, она всё равно не сумела бы успокоиться. Ей, в сущности, было уже неважно, чей это ребёнок. Увидев его, она словно впервые узнала, что в жизни нет и не может быть большего зла, чем то зло, которое было сделано ею. Эта простая понятная мысль теперь казалась невыносимой.
Марина поднялась и застыла, и это выглядело так, как будто её окрикнул сам Бог. Всё поплыло перед глазами. Марина сделала шаг, ещё один. Ребёнок спрятался за дерево. Девочка, — Марина видела её встревоженное лицо, — оглянулась на свои окна. Марина тоже посмотрела в окно 16-й: за стеклом никого не было. Она остановилась в трёх шагах, вновь утёрла глаза, наклонилась и прошептала, заикаясь от обиды и боли — и голос её звучал совершенно по-детски:
— Пойди сюда...
Девочка не ответила, лишь тронула снег веткой.
— Доча... — Марина шагнула было вперёд, но подвернула каблук, поскользнулась и легла в снег, легла и разревелась, — миленьк... миленькая моя...
Девочка беспомощно озиралась вокруг. Поблизости никого не было. В целом мире никого не было кроме ребёнка и плакавшей женщины. Утирая лицо, мокрое от снега и слёз, Марина умоляла девочку подойти ближе, но та продолжала ворошить веткой податливый пух сугроба, и лишь искоса поглядывала на неё, бормоча что-то малопонятное...
Осмысленная, очистительная скорбь кающейся грешницы ли это была, или всего лишь скрытое желание обмануть смерть, завладеть новым телом, став частью ценного опыта в жизни ребёнка?
Миллионы людей, стоя у окна, разглядывают фигуру человека, плачущего подле ног Бога. Он вымаливает себе прощение. Человек, плача в ожидании последнего решения Младенца, лежит в снегу посмертия. Но Младенец молчит: не в его власти распоряжаться судьбами людей, освобождённых грехопадением. Вере же в то, что Младенец силой абсурда дарует человеку прощение, противостоит здравомыслие. Оно мешает человеку поверить в возможность спасения. Тогда человек превращает Младенца в своё дитя, в надежде, что оно когда-нибудь сможет обуздать рассудок и открыться абсурду божественного.
-

-

-

Мементо мори... В народе попросту - пока жареный петух в жопу не клюнет...
Не близка мне эта тема, не зашёл текст. Но автор себе не изменяет. Штош, стабильность - признак мастерства )))
1 -
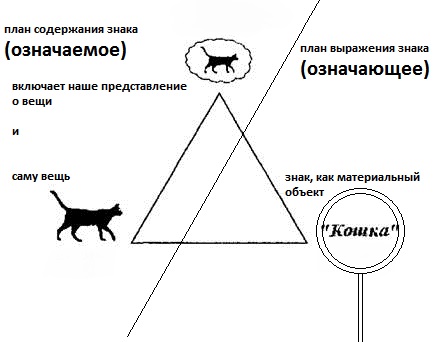
А я вам старую Голландию подарю)
https://www.youtube.com/watch?v=C43G9lQ6G7E
Все люди на видео давно умерли((
1 -

-

-

Назидательная сага для проституток. Зачитывать перед сном, поглаживая бедро.
1 -
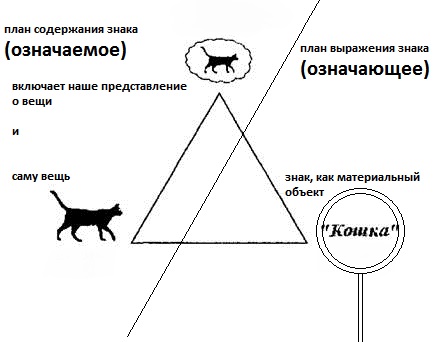
Хорошо хоть "поглаживая бедро", а не "поглаживая Педро"...))
