Кверулянт
В кабинет с табличкой «Судья 1 категории — Л. И. Скрябин» вошёл его старинный приятель, Фаддеев. Пожав судье руку, он сразу же вынул из кармана листок и произнёс с чувством:
— Погляди-ка сюда, Лёнь!
Удивлённый Скрябин взял листовку, надел очки, ухмыльнулся и прочитал:
Urbi et Orbi!
Товарищ туловище!
Что ты видишь вокруг себя?! В бликах рекламы, на фасаде супермаркета, в буклетах и на телеэкранах читается вся твоя жизнь. Она — сплочение пяти жирно освещённых знаков, пяти пальцев сжатых в кулак, который есть слово, символ общего вожделения. И это «Обман»!
В уличной сутолоке, по слякоти, вопреки ветру, через ограды и турникеты, не задумываясь, не смущаясь, туловища идут в радушно раскрытое лоно, чтобы отдаться похоти потребления. Какими бы свойствами не обладало туловище мужчины, женщины, старика или подростка, будь оно рыхлым, тощим, потным, жалким, «голубым», «чёрным», увечным или совершенным, тупым, но милосердным, или жестоким, но одарённым, малообеспеченным или со средним достатком, алчным, бездушным, бездомным, капризным, слабо видящим или слепо верующим, — как бы оно не выглядело, супермаркет «Обман» пожрёт и переварит его, ибо туловище должно жить по графику; бороться за свои гражданские права; подчиняться голосам радиовещателей и киногероев; получать водительское удостоверение; смеяться без повода; стареть и страдать, умирая; целую жизнь бегать от прилавка к прилавку в погоне за ценным товаром, как за Утешением.
Подчиняясь инстинкту стада, поток туловищ послушно ползёт в «Обман». Они — марш безглавых! Они пусты и покорны, ими было бы легко понукать, но нет никого, кто бы делал это...
Товарищ! Твоё туловище должно стать на голову выше толпы, чтобы обрести органы восприятия и мышление. Но и тогда, став человеком, оно отнюдь не обречено на свободу. Толпа принуждает его идти в ногу. Бесконечно трудно бороться с потоком, если ты его часть. И всё же человек в толпе туловищ видит и мыслит, это значит, у него есть высшее предназначение, смысл жизни. Он должен водрузить над головой знамя, как символ своей веры, как указатель для тех, кто уже обнаружил голову на плечах или готов её обрести в будущем. Подняв знамя, человек подарит другим право выбора, а написав на нём верное слово, он мог бы повернуть толпу вспять. Слово это — «Истина». Но что истинно?
«Русский Абсурдный Блок»
Скрябин отложил листовку, усмехнулся и погладил бороду, не зная, что сказать гостю. Его старый знакомый, так и стоявший в пальто посреди антропогенного лета, был настроен решительно. Взгляд его блуждал, руки дрожали. Он то засовывал их в карманы, то смыкал на груди, то начинал тереть ладонь о ладонь, вспоминая, что ему холодно.
— Вот такие бумажки распространяют, Лёнь... — сказал он нервно, и тут же добавил не без упрёка — А, ты говоришь, дети малые...
— Но это же... — и Скрябин снова потянулся к листку, чтобы удостовериться, не упустил ли его взгляд какой-нибудь крамолы. Ещё раз быстро пробежав строчку за строчкой, он закончил — Но это же глупости, Валер! Детский сад номер десять!.. Чем бы дитя не тешилось...
— И экстремистские лозунги, по-твоему, глупость?! — полыхнули зрачки Фаддеева.
— Да какие лозунги?! Тут бред сивой кобылы, прости Гос-с-споди! Этот листок, Валера, настолько глуп, что его для меня как бы и нет.
— Это экстремизм, Лёня! Иль ты читать не умеешь? Прямым текстом сказано: «Власть обманывает! Действуйте!» Что ещё тебе нужно, чтобы принять заявление?
— Да-а... — Скрябин замешкался, выбирая возражение посущественней — да, что тут расследовать-то, Валера, что-о-о? Какие сведения у тебя? Против кого?!
— Расследовать — задача следователя. Я лишь прошу возбудить дело!
— Да какое де...
— Леня! — перебил Фаддеев, — Такие как ты революцию в семнадцатом прозевали! Там тоже с листков начиналось!
— Сто лет тебя знаю, — заговорил Скрябин примирительно, — а в-вот никогда бы не подумал, что ты в параноика превратишься!
— Т... ты... — Фаддеев выпрямился, вытаращил глаза и запел — Ты-ы! Как... ты... Это я п-параноик?! Да ты!.. Да у меня!.. У моего!... Пятеро! Пятеро! Все погибли в Гражданскую! Из-за таких вот, как ты, погибли!!
— Слушай, мне некогда сейчас... Давай, иди... В другой раз, это...
Вне себя от ярости Фаддеев бежал через площадь. Это было в центре, в два часа дня. Слова презрения кипели у него на языке:
— Вот вам и правосудие! Но, ничего-о, ничего-о-о! Я их заставлю, я их тряхну! Тряхну-у!..
Вначале Фаддеев решил ехать в прокуратуру, но по мере того, как он приближался к метро, его дрожавший от обиды и негодования внутренний голос, звучал всё сильнее и всё настойчивее, и за всё более сложными его рассуждениями, как будто таилось невысказанное требование, сразу же обратиться в Высшую Инстанцию, минуя районный и городской отделы и даже главное управление МВД. Фаддееву вдруг стало казаться, что он берёт на себя трудную и опасную миссию, — спасение Родины. Под объёмной, светящейся алым светом, литерой «М» он обернулся, подумав, что его могут «вести». Но в потоке теней, медленно уползавшем в огромные двери, не было ничего подозрительного, и он, успокоившись, примкнул к нему. Поток вынес его на эскалатор, затем — на перрон. Здесь, пока не пришла электричка, Фаддеев петлял меж колонн, как будто это броуновское движение могло замолчать его внутренний голос. И может быть оттого, что Фаддеев так старательно желал избавиться от него, голос становился всё требовательнее, всё злее. В очередной раз он напомнил Фаддееву обо всех его «странностях»: его впечатлительности, неприятии его обществом, его никудышных нервах, — то есть, обо всех тех проблемах, которые со школы сопутствовали ему. Неужели, я опять в чём-то не прав? — спрашивал он себя. И внутренний голос в ответ указывал ему на все возможные «за» и «против», так что он снова и снова убеждался в необходимости своих выводов, и, как следствие, в надёжности занятых им позиций.
Суди сам! — шептал голос, — Есть группа подпольщиков, занимающихся распространением листовок, главный посыл которых равен призыву обрушать устоявшееся в социуме равновесие. Иначе говоря, идёт направленное смущение умов! Народ призывают к бунту! А власть дремлет! Полиция спит! И, — что самое страшное! — если находятся сознательные, небезразличные к судьбе страны, люди, их не слушают; над ними смеются. Каково, а?! Если представитель власти не принимает к сведению сигнал о готовящемся перевороте, то, как дважды два ясно, что он не может представлять власть. У меня, как у гражданина, не должно быть такого соотечественника. Да и человека-то, отказывающегося соблюдать общественный договор, на котором построена государственность, а значит и покой каждого обывателя, просто-напросто не должно быть среди живых!
Рассуждая так, голос внушил Фаддееву мысль о том, что сцены у Скрябина как бы и не было, отчего восприимчивая к такого рода внушениям натура кверулянта впала в оцепенение и пребывала в нём до тех пор, пока зеленоватая призма под потолком с мерцающей надписью «Выход в город» не заставила его вспомнить, что он не звонил жене. Он встал возле будки контроллера, отыскал её номер и, дождавшись когда гудок оборвётся, вскрикнул:
— Алё, Лена! У меня ЧП, так что я задержусь: ты не жди, слышишь?!
— Что в этот раз? — вздохнула жена.
— По телефону не могу. Я потом тебе объясню! Это касается нас всех... Тебя, меня, всех, понимаешь?!
— Валера, у тебя дормиплант с собой?
— Что?! Какой к ч?.. Слушай! Мне сейчас не до этого! Я перезвоню!
Жена продолжала говорить что-то, но Фаддеев ткнул кнопку сброса и убрал телефон в нагрудный карман, чтобы, в случае нападения, легко его выхватить.
Дура, она ничего не поняла! — вновь заговорил голос, — Ссылается на нервы, а ведь у тебя с собой листовка, а листовка — неопровержимый факт! Жена не верит тебе, и, значит, не любит тебя, разве ты не видишь? Подумай: если благоверная хотя бы раз пойдёт против мужа, то её уже никак нельзя будет называть благоверной, мало того, само представление о любимой жене, как о самом близком человеке автоматически станет невозможным, так? Нет, ты скажи, верно?
Фаддеев хотел и не мог возразить, потому что возразить было нечего. И тогда он почувствовал, что голос от его имени отказал жене в праве на жизнь...
Он поднял глаза и обнаружил себя идущим по Савёловскому бульвару. Слева над крышами новостроек поднимался алый воздушный шар, чего в зимние месяцы он никогда прежде не наблюдал здесь. На шаре виднелась какая-то эмблема, и Фаддеев сощурил глаза в надежде разглядеть её. В эту секунду перед ним вырос высокий сморкающийся человек с огромным рюкзаком за плечами и незажжённой сигаретой во рту. Он пожевал фильтр и прошепелявил:
— Дай сшпичку.
Фаддеев потерял дар речи и прежде чем смог ответить, два раза икнул от острой смеси пережитых им чувств — непонимания и негодования.
— Уважаемый, — начал он, — во-первых курить в общественных местах возбраняется законода...
Высокий, однако же, не дослушал. Он ухмыльнулся и, разглядев невдалеке курящего, побежал за ним, чем ещё больше озадачил Фаддеева. Осквернённый бессмысленным нагромождением из слов и действий случайного человека, Фаддеев снова заговорил с собой и очень скоро пришёл к уже знакомому выводу: прохожий, ведущий себя подобным образом невозможен и его не должно быть. Не должно было быть также и автомобилей, катившихся вдоль аллеи по которой он шёл, старухи, сидевшей на скамье с болонкой на руках, невозможными были сбрасывавшие снег с крыши на неогороженный участок тротуара, рабочие, окурки и жёлтые пятна на сугробах, невозможной была даже погода. Час тому назад, когда он входил в здание суда, крепко морозило, теперь же начало таять и уже открылись подметённые тротуары, запели птицы, а в переходе торговали не весть откуда взявшимися в декабре побегами мимозы. Всё это было до того странным, что Фаддеев отказывался верить своим глазам и боролся с соблазном зайти в близлежащую рюмочную и напиться до потери сознания. Кончилось, однако, тем, что он, напуганный нежданным преображением мира, понёсся вдоль улиц, шарахаясь от раздевавшихся на ходу прохожих, чтобы, попав в Высшую Инстанцию, успеть с регистрацией заявления, которое, как он надеялся, даст импульс к восстановлению должного порядка вещей.
Ещё не угас день, когда, распахнув тяжёлые двери, Фаддеев вбежал в ярко освещённую залу, вбежал и остановился. Хотел было осмотреться, но едва не ослеп от избытка ламп и зеркал, и, опустив голову, двинулся к громаде стола, очертания которого грезились вдалеке, по еле видимому рисунку на полу, то есть почти наугад. Так, не поднимая глаз, пересёк всю залу.
— Уважаемый Инспектор, — обратился Фаддеев к кому-то, кого не видел, — я прошу вас меня выслушать. Дело в том, что я обнаружил агитку экстремистской организации. Вот она. — Сказав это, Фаддеев положил бумагу на стол, — И естественно я, как человек сознательный, сразу же обратился в суд. Однако, реакция судьи меня удивила и обескуражила. Я натолкнулся на стену из непонимания, насмешек и банального нежелания работать. Уважаемый Инспектор! Правильно ли я понимаю, что если судья не выполняет того, для чего он поставлен на должность, то он — обманщик, он — лицемер? Он лжец, а лжи — как мы с вами знаем, — в строгом смысле не существует! Она попросту невозможна!
Фаддеев сделал паузу, надеясь, что Инспектор его поддержит. Но слов одобрения не последовало, и он продолжил:
— Уважаемый Инспектор, я с детства испытываю затруднения, связанные с моей неспособностью находить тину в слове «истина». Но до сего дня это было терпимо. Да, мне и раньше пытались внушить, что я нездоров и даже ставили на учёт в медучреждение, но я ни минуты не переставал любить Родину, сограждан, природу и жизнь в целом. А теперь вдруг мне стало ясно, что всё это ложь. Что бы не делалось, о чём бы не говорилось вокруг — всё ложь, всё обман, — голос Фаддеева дрогнул, по щеке заскользила слеза, — вы слышите, Инспектор, ничего, ничего в этом мире нет, и никогда не было! Всё ложь и обман. Как это понимать? И мира-то самого и меня в нём никогда-никогда не было! Вы меня слышите?.. Инспектор!..
Нехудожественное послесловие
Кверулянтство, — как о нём говорит Википедия, — это непреодолимая сутяжническая деятельность, выражающаяся в борьбе за свои права и ущемлённые интересы (зачастую — мнимые или преувеличенные). Эта навязчивость наблюдается у психопатов параноического склада и часто у параноидных шизофреников.
Если отталкиваться от популярного ныне в философской среде мнения о том, что двадцатый век был веком простой шизофрении, то, следуя всеобщему принципу развития, согласно которому переход на следующую стадию всегда совершается путём преодоления высшей точки, точки кульминации, двадцать первый век должен стать веком параноидной шизофрении. Другими словами шизофрения, которая сама по себе означает разорванность речи, разложение личности, деконструкцию сознания, замену чётко выраженного стержневого мышления множеством трудно поддающихся пониманию версий, объединённых по принципу ризомы, в общем все те методологические переосмысления, которые вкупе составляют парадигму постмодернизма с его гебефренической балаганностью и отказом от любых иерархий, эта тотальная «шизофрения» может быть преодолена только возведением в степень, или — иначе — параноидной сакрализацией всеотрицания.
Кверулянт родом из двадцатого века, это значит он болен шизофренией. По мере раскручивания сюжета его состояние ухудшается, читай — шизофрения помалу приобретает параноидную форму. Кверулянт здесь ещё субъект, но это субъект, уже приготовляющий себя к смерти, уже подсознательно готовящийся заместить себя кем-то (Здесь кажется уместным вспомнить о том, что потребность жаловаться, свойственна тем, кто слаб и не уверен в своём праве на существование). Собственно, это ключевой момент: пока кверулянт ещё верит во что-то, т. е. пока категория сакрального для него — не пустое место, он жив, он во многом похож на современного обывателя. Однако мир стоит на пороге больших изменений, и он их предчувствует. В тексте эти изменения манифестируются листовкой (листовка — эссенция постмодернизма). Для кверулянта этот текст — оскорбление и ультиматум. «Прочных оснований, на которых, как раньше казалось, покоится мир, въяве не существует» — вот её резюме. Кверулянт не может согласиться с таким страшным выводом, он ищет защиты, ждёт и ищет оправдания и опровержения, но вдруг обнаруживает, что реальность действительно не имеет под собой твёрдой основы. Из текста становится ясно, что обоснование всего сущего, которым люди довольствовались прежде, в новых условиях выглядит слишком уж зыбким, расплывчатым, так что он может доверять только своему внутреннему голосу, т. е. Другому в себе. Голос направляет его, подсказывает ему путь, но на первых порах, пока кверулянт не осознаёт масштаба произошедшего, голос ещё не обладает должной силой, он ещё не Инспектор. Инспектором, определяющим всю жизнь кверулянта, его единственной точкой опоры, внутренний голос должен стать в будущем. В финале речь кверулянта превращается в персеверацию, в состоянии предельного напряжения он призывает Инспектора, он готов целиком и полностью подчиниться его воле.
Уверовать в нигилизм значит воскресить Бога.
-

«сморкающийся человек с огромным рюкзаком за плечами и незажжённой сигаретой во рту.» тяжело наверное сморкаться с сигаретой во рту.
Послесловие в топку.
1 -
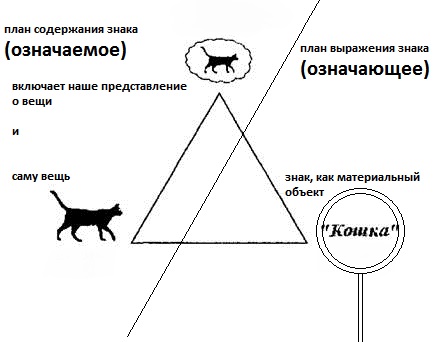
-

-

Старичюля присоединяюсь. Не удалось автору захватить и удержать внимание читателя.
1 -

-
 Текст отличный. Очень точно подмечено состояние умов в наше время. Жму руку. Послесловие хорошее, но и без него всё отлично понятно было.1
Текст отличный. Очень точно подмечено состояние умов в наше время. Жму руку. Послесловие хорошее, но и без него всё отлично понятно было.1 -
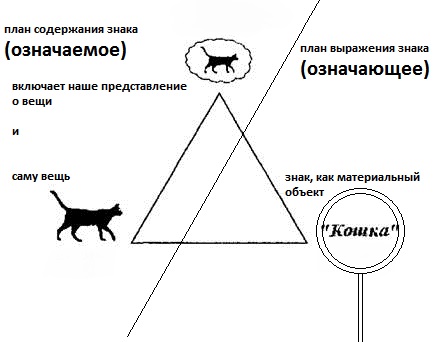
-

Культурный Шизофреник, всегда рад обнаружить что-то дельное, и выразить автору своё уважение.
1
