Аукцион
«Она хотела бы жить на Ман-хэт-те-не
И с Деми Мур делиться сек-ре-та-ми...»
Тряся членом, Радислав Вяльба вышел из ванной в облаке пара. Обыскав сваленное на диване тряпьё, он извлёк из него вопящий смартфон. Сказал в трубку:
— Да, Антош... Доброе утро!
— Ну что, брат Пушкин!?
— У тебя заказ появился?!
— Есть одно дельце... Ты как? Настроен?
— В полной боевой готовности.
— В общем так: на выходные в «Девятом Круге» сядут пьянствовать очень бедные дядьки. Их надо будет повеселить в образе Гитлера... Программы там как таковой нету, только импровизация, то есть репетировать тебе не придётся. В чём смысл: надо чтобы фюрер бегал по залу и нёс бы их тёлкам всякую лабуду... За ночь обещают десятку плюс бонусы. Мне три отдаёшь за инфу, остальное тебе. Идёт?
— Договорились. Антоша, ты где роли такие находишь?
— Я на тебя рассчитываю. Тебя в театре отпустят?
— Я всё улажу.
— Ну бывай. Созвонимся в четверг.
Радик положил трубку и воссиял. Только вчера, стоя в автосалоне, он облизывал взглядом бэушную «Audi», и умолял господа бога одарить его недостающей для первого платежа суммой. И вот, наутро, случилось! Что-то изменило порядок вещей во вселенной: могущественная женщина, мисс Фортуна, заметив его в многомиллионной толпе страждущих, заступилась за него, за Вяльбу, пред суровыми законами бытия, и даже готова была отдаться в виде этой прибыльной сделки.
— Отлично! — бормотал Вяльба, глядя на себя в зеркало, — Счас главное зацепиться, а там поглядим... С работы я отпрошусь. Владиленыч будет орать, но мне тачка пока важнее...
Радик позавтракал, оделся, вышел во двор, и всё это время на его роже лежала печать сволочного самодовольства. Но зато, как побрёл по проспекту, он сразу нахмурился, сделался строгим, даже озлобленным, каким и привык быть — так что в метро и на улице, на работе, его никто не посчитал самодовольною сволочью.
Предвыпускной студенческий год Вяльба окончил в театре «Уралец», куда он устроился на каникулы костюмером. К осени он надеялся отыскать другое, более доходное место, но сложилось всё так, что каникулы продлились восемь сезонов. В одночасье изменившиеся обстоятельства: дефолт, обвал курса валют, и как следствие рост безработицы, заставили его поберечь место. Он решил переждать какое-то время; остался, как говорят, с синицей в руке. И едва жизнь стала налаживаться, — вчерашние безработные заимели доход, начали покупать подержанные авто и летать на курорты, — Вяльбу ужалила зависть. Зависть заставила Вяльбу плюнуть на всё, собрать свои накопления да с головой уйти в бизнес. Но человеком он был ленивым, малоумным, необязательным, а потому вскорости прогорел. Протянув на вольных хлебах пару месяцев, он вернулся в театр, где с утра и до вечера теперь вынашивал стартап-идеи на манер пошлейшей инфоцыганщины. Идей было много, но они раз за разом проваливались, заставляя Радика всё чаще и всё острее мучаться нищебродскими комплексами, пока те однажды не обрели черты паранойи: он вдруг люто возненавидел своё окружение. Это выражалось в бесконечных капризах, в издёвках, в презрительном отношении ко всему коллективу, якобы не желавшему богатеть. Отныне Вяльба во всеуслышание приравнивал театральное ремесло к банальному лицемерию, с чем справится каждый второй при более или менее продолжительном пребывании в труппе. Он полюбил высмеивать, унижать, препираться с актёрами. Часто, стоя за кулисами и наблюдая очередную репетицию «Вишнёвого сада», Радик нашёптывал про себя:
— Да разве такая интонация должна быть у Фирса пред смертью? Не верю! — и на разные лады пробовал — Эх, ты, недотёпа... Эх-х, ты...
Неверие его в такие минуты усиливалось ещё и тем, что Фирса всегда играл один и тот же ненавидимый Вяльбой до чёртиков человек. Им был молодой, талантливый, но «чересчур рано обласканный зрителями» актёр Лазарь Медынин. Впрочем, особенно презираем Лазарь был не за это. Вяльбу бесило то, что у актёра Медынина водились деньги, и деньги по мнению некоторых шептунов достаточные, тогда как он, человек отдавший театру лучшие годы жизни, был не обеспечен ими вполне. Выходило немногим больше, чем у рабочих сцены, гардеробщиц или охранников. Поэтому если при нём кто-нибудь вдруг заводил пространные разговоры о личных заработках, Вяльба терялся и мямлил не в дело:
— Медынин? Да ему Владиленыч за постель платит.
Единственным настоящим достоинством своей профессии Радик считал прямой доступ к костюмам и парикам. Это давало ему привилегию вступать в споры с директором, пропускать изредка репетиции, вмешиваться в составление графиков постановок.
Звонившим был сокурсник его, Антоша Каляев — с ним у Вяльбы имелась договорённость. Антоша работал ивент-менеджером в фирме «Happy Union», организующей празднества. Полгода назад он явился на репетицию в тот самый театр, где служил Вяльба. Он искал шута, чтобы украсить им корпоративную пьянку, а встретил давнего знакомого по училищу. Радик, как раз задумывавшийся тогда, как преобразовать личное время в какую-нибудь доходную деятельность, узнав о цели Антошиного визита, мгновенно сообразил, что судьба дарит ему выгодную возможность такого преобразования. Он спросился задёшево играть роли во всех будущих представлениях, и Антоша зацвёл, зная, что такое положение дел и ему сулит хорошие премиальные. Вяльба, вдобавок, пообещал непрерывно практиковаться и даже храпеть во сне строго по Станиславскому. В общем они сговорились и вот уже пять с половиной месяцев успешно сотрудничали.
За это время Вяльба побывал и Бэтменом и Пиноккио; был козлом Мендеса и врачом скорой помощи, а однажды даже врывался в толпу гуляк в образе террориста, обвешанного взрывпакетами, так что по опыту он уже неплохо понимал суть таких маскарадов. Обычно дело решалось так: он — один или со товарищи — действовал в рамках заранее утверждённой программы; действовал, стараясь разными способами вовлечь в свои игры подвыпивших гостей, много импровизируя с их репликами, тонко изголяясь над ними, или же просто приковывая внимание теми заурядными номерами и фокусами, которые хорошо известны любому практикующему артисту. Чаще всего после двух-трёх часов работы гости привыкали к нему, переставали его замечать и можно было под шумок пойти покурить на улицу. Подобные выступления, несмотря на кажущуюся неуправляемость, обязательно нужно было репетировать, иногда и не по одному дню, но в этот раз — что несколько озадачило Вяльбу, — в словах Антоши осталась неприятная неопределённость, потому что не только рассказа о плане действий не прозвучало от него, но даже и примерных напутствующих пожеланий. Не ясно было за что ему, Вяльбе, заплатят. В размытом словосочетании «только импровизация» не было ничего конкретного, так что оно рождало больше вопросов, чем ответов. Обрадовавшись неожиданному заработку, Радик вначале упустил эту мысль, но позже она дала себя знать и он, всерьёз задумавшись на ночь, в следующее утро Антоше перезвонил:
— Алё, Антоша... Привет!
— Здоров. Слушаю...
— Антош, а репетиции вообще никакой не будет?
— Я же тебе вчера говорил — репетировать нечего. Ты типа Гитлером будешь там.
— И что я буду делать? Ну приблизительно!
— Откуда ж я знаю... Тебе велено просто явиться вовремя. По-моему какую-то драку нужно сымитировать... Ладно, давай, а то некогда.
И скинул.
Радика сказанное успокоило и он вновь занял себя мечтами об иномарке.
Красавица, радость, любовь моя! Скоро! Скоро я тебя выкуплю!
В вечер воскресенья на исходе августа, слиняв с репетиции, Вяльба подлез к чёрному ходу элитного клуба «Девятый Круг». По телефону обратился к Антоше с просьбой войти. Антоша встретил друга в изрядном подпитии. С видом глубокого утомления от испытываемых рабочих трудностей он проводил Вяльбу в гримёрку:
— В общем, шоу уже идет... Ты ус-то взял? Китель фашистcкий?
— Всё с собой.
— Давай живее. Через полчаса тебе выступать. Твой выход на слове «аукцион». Запомни!
— Ага. Запомнил. Какой аукцион?
— Да не важно...
Спустя пару минут, сидя в крохотной комнатке перед зеркалом и приклеивая к ложбинке над верхней губой квадратный гитлеровский ус, Радик занервничал. В голову полезли всякие испуги, которых, как вшей приходилось вытаскивать и давить.
Вот сейчас выйду на сцену, крикну «зиг хайль», а дальше-то что? Ну, расскажу пару шуток, они посмеются, но если настоящей программы у организаторов нет, то это всё без толку. Впрочем, опять же... ведь тут их вина, а для меня главное — деньги.
Вскоре всё было приготовлено: фюрер Вяльба, одетый в серо-коричневое обмундирование, обвешанный крестами, орденами за всевозможные взятия, медалями «За отвагу» и «60 лет советской армии», прошёл к занавесу, где, вздрагивая от страха, минут десять внимал бешеному улюлюканью, доносившемуся из зала. Слышно было, как хвалят женские прелести, а значит — на сцене давали стриптиз. Однако, не эта догадка, не громогласное буйство толпы заставляло фюрера вздрагивать, нет. Сам характер долетавших до него окриков был каким-то чужим, пугающим.
Ничего страшного. — думал он — Стриптиз, оргия. Ничего страшного. Однако, зачем так орать? Да ещё матюгами!
Но вот музыка перестала. Зал захлопал в ладоши, включили свет, а мимо, смеясь, прошмыгнули две абсолютно голые девицы. И кто-то, стоявший рядом, ободряюще похлопал фюрера по плечу, шепнув на ухо: «А сейчас ты...»
Раздался микрофонный шорох. Из-за кулисы напротив вышел под софиты ведущий. С минуту он говорил что-то глупое, чего Радик не разбирал, ожидая заявленного пароля. Пароль прозвучал в самую последнюю очередь:
— ...а теперь по вашим многочисленным просьбам у нас аукцион!
Аукцион! Узнанное, это слово толкнуло Вяльбу вперёд. Глотнув воздуха, он громыхнул кирзовыми сапогами, выкинул руку к потолку и пафосно проорал:
— Зиг хайль!
— Ха-ха-ха! Хайль Гитлер! — ответило многоголосое эхо. Зал зашёлся в рукоплесканиях, заволновался. Несколько человек вскочили со своих мест и побежали занимать очередь. Фюрер понял — кроме него все ясно себе представляют, что теперь будет происходить. Это напоминало заговор.
Едва начавшуюся суматоху прервал ведущий:
— Для тех, кто у нас впервые, объясню правила аукциона. Итак, все желающие в порядке живой очереди, предварительно оговорив сумму с нашим клоуном, — палец ведущего ткнул в сторону Радика, — одним ударом могут отомстить за деда, за прадеда и за весь исстрадавшийся русский народ. В прошлом году, напомню, у нас состоялся мужской разговор с Брутом, в позапрошлом — с Троцким и Лениным, на сентябрь вами снова заявлен Иуда Искариот, ну а сегодня мы выясняем отношения с Адольфом Алоизиевичем. Кто первый?
Фюрер внимательно слушал и не понимал; не понимал, но внимательно слушал и всё ждал, что сейчас ему скажут: «Готовы ли вы?» И тогда он попросит объяснить, что же здесь происходит. А затем недоразумение выяснится: он вздохнёт и станет спокоен... Но его ни о чём не спрашивали.
Тем временем на сцену влетел первый мститель. Он не был рослым, не был физически крепким, и его скуластое белое лицо не показалось бы фюреру таким подлым, если бы не вся эта глупая ситуация, в которую он попал. Ситуация приказывала ему стать внимательнее и смотреть на мстителя с любопытством, потому что позабыв о нём хоть на минуту можно было всерьёз пожалеть — уж очень зло и весело, очень непредсказуемо сверкали косые глаза. Не церемонясь, мститель выхватил из рук ведущего микрофон:
— Я первый! — и, подойдя к Гитлеру вплотную, добавил, почти не расслоив презрительной параболы, в которую склеивались его губы, — Аааа! Истинный ариец! Избранная раса! Иди-ка сюда...
На ватных ногах Вяльба шагнул ближе к скуластому. Тот его обнял и продолжал:
— Значит я русишэн швайн по-твоему? А ты, значит, богоподобный ариец. Знаешь, как мы поступим? Я дам тебе тысячу, ты перетерпишь один прямой в корпус, и мы будем считать, что в войне у нас наступило месячное перемирие! Подходит тебе?
Говоря так, мститель вытаскивал из карманов мятые купюры и запихивал их за воротник одуревшему, бестолково улыбавшемуся арийцу. Вяльба же, слушая сначала ведущего, а затем этого наглеца, всё отчётливее понимал, что это вовсе не розыгрыш, и что в ближайшую минуту нужно будет либо остаться и поучаствовать в мазохистской мистерии, либо (ко всеобщему разочарованию) попытаться уйти, и тогда, наверно, навек лишиться своего источника заработка. Он понимал это, но определиться не мог и потому не мог вымолвить ни слова в ответ. Если бы Вяльба умел быть с собой честным, он догадался бы, что весь нынешний вопрос состоит для него не в том, согласен ли он принять условия аукциона, а скорее в том, устраивает ли его предложенная мстителем сумма.
— И чё ты умолк, Адольф?! — наглец заговорил в микрофон ехидно, — Я спрашиваю, тысячи тебе хватит? Я не сильно бью. Сразу не сдохнешь, не бойся!
Все притихли и надо было уже отвечать что-то. Фюрер, оценив на глаз мощь противника, подумал, что «он даже с ног меня не собьёт». Подумал и произнёс:
— Ну, хва...
Получив реактивный удар в солнечное сплетение, Радик упал так и не вымолвив слова. Минуту затем, пока он катался по полу, в груди росла, разливалась по телу щелочью дикая боль. Но за этой болью таилась вполне человеческая радость от скоро нажитых денег. Другую радость, радость от содеянного, испытывал мститель. Во всё время страданий Радика он не отходил от него ни на шаг, но, склонившись низко над морщившимся лицом, произносил через паузы одну и ту же короткую фразу: «Фашист, сука!»
Едва первая боль ушла, а дыхание стало налаживаться, Вяльба открыл глаза. Микрофон был теперь в руке второго мстителя — отвратительного низколобого кавказца с жирным лицом и присохшим к подбородку ошмёточком мяса. Предлагая помощь, он протягивал руку. Вяльба не спешил подниматься. Он понял, что поверив в нескладную наружность прошлого обидчика много продешевил, и что вставать прямо сейчас, показывая себя крутым и несокрушимым, просто-напросто глупо. К тому же, прежде чем приступать к новым торгам, ему нужно было выработать какую-то тактику поведения. Поэтому фюрер лежал в пыли и кривлялся, и делал вид, что безмерно страдает, набивая тем самым цену на будущее. Это длилось так долго, что толпа заскучала, отдельные стали роптать и какая-то жирнозадая одинокая женщина, улучив момент, крикнула:
— Господи, да что это за развлеченье такое! Вы что?! Не видите?! Ему по-настоящему больно! Он же ни в чём не виноват!
Гитлер удивился сочувствию, осторожно поднялся на ноги, и как бы между кривляньями стал вглядываться в хихикающую полутьму зала, надеясь заметить среди десятков пар глаз холодных, одну пару добрых глаз, и ему — о, чудо! — будто бы даже и повезло, но заступница к тому моменту, когда ему повезло, уже отвлечённо беседовала с каким-то напившимся холуём, так что Вяльба сделал простой и циничный вывод: своим жалостным воплем дама снискала внимание.
— Ну как?! — моргнул кавказец Адольфу.
«Лишнюю тысячу я уже заработал. Надо бы ещё» — подумал тот, а вслух прохрипел:
— Ничего...
— Детей в агон брасал, виродок?!
— Я?
— Эээ! Ты па-русски отвечай, да! — сказал кавказец торжественно, и тут же добавил, передумав, наверное, устраивать ещё один ненужный допрос — Ладно, сколько?!
— Сколько? Ну сколько?.. Три! Нет, пять! — Радик гладил ноющую грудину и путался, но кавказец уже вручал ему микрофон, и надо было определять цену всерьёз, — Хорошо! Восемь тысяч рублей!
Изумлённое «О-о-о!» прокатилось по столикам и кто-то, бывший у самого выхода, это «о» ухватил да приладил к вопросу,
— Осилишь, Мурад?!
Мурад не ответил, но глядел на Вяльбу убийственно, словно желал задавить его своим мелким прищуром. Присутствующим сразу же стало ясно, что Мурад цены не осилит. Микрофон взял ведущий:
— Напомню! Если участник не располагает необходимой суммой, то право на экзекуцию предоставляется...
— Э-э, пагади, да! — оборвал кавказец. Он будто бы вспомнил о заначке, потому что подло улыбнулся и, не торопясь, направился к тому столику от которого крикнули. Поговорив с минуту на родном диалекте, он возвратился к сцене с деньгами. Шея его сильно потела, ноздри обиженно раздувались, налитые удалью плечи дрожали под рубашкой и по разъярённому лицу его было заметно, что прямо здесь и сейчас при всём честном народе было разбужено и ущемлено неустойчивое восточное самолюбие, и что месть за него будет страшной. Кавказец принялся деловито закатывать правый рукав, изредка посматривая во влажное, побледневшее, какое-то «опровергнутое» лицо фюрера. Все вокруг замолчали, предвкушая оплеуху ценой в восемь тысяч.
Радик Вяльба, будучи человеком суеверным, достал носовой платок, трижды сложил его, прикусил, и подставился под удар. Но в последний момент отпрянул и попросил,
— В нош не бейте, пошалшта!
Мурад невесело усмехнулся, и, сжав свободной рукой награды фюрера, притянул его ближе, чтобы кулак не прошёл вскользь. Через секунду в зале точно от петарды раздался хлопок и, окропив китель кровью, фюрер рухнул на занавес. Рухнул и замычал. Этот удар был сильнее первого. Вяльба лихорадочно сдавливал края разрезанной о зубы, щеки, но почти не чувствовал боли. Хотя боль и была безмерной, то основное, что вынес он из случившегося вовсе не принадлежало к потоку его чувств или мыслей — оно было материальным. Оно лежало у него в кармане и жгло его хлеще крови и потому думать тут было нечего и потому на прозвучавший вскоре вопрос ведущего: «Может быть пока хватит?» — фюрер ответил: «Всё нрмаля, сё рмаля...» И сейчас же поднялся на ноги, вычисляя в уме цену для третьего игрока.
Этот был чрезвычайно толст и едва стоял на ногах. В первые два удара он находился неподалёку, так что Радик хорошо слышал его барабанный хохот, звучавший как бы над всеми другими смехами, и видел исподволь его широко распахнутый свиной рот, запрокинутый над танцующим в припадке веселья студнем шеи. Он был ещё поганее первых мстителей. После недолгих раздумий Радик решил называть сумму в двенадцать тысяч и не рублём меньше. Он так и сказал когда к нему, вправлявшему себе челюсть, приставили микрофон:
— Венацать тыщяч и не рублём меше... — и добавил погодя, словно оправдываясь — Е... могу меше... Не могу...
— Итак, — объявил ведущий — двенадцать тысяч рублей!
Толстый мгновенно перестал улыбаться и харкнул на пол. Лицо его перекосилось. Не сказав ни слова, он повернулся и пропал в сумерках. Радик уж начал думать, что на сей раз он переборщил с ценником, но скоро мститель вновь возник в круге света, правда теперь в руке у него была бутылка с шампанским. Ускоряя шаг, он поплыл по кривой на фюрера, шипя что-то малопонятное, и так это всё устрашающе выглядело, что вначале фюрер попятился от него, догадываясь инстинктивно, что надо поворачиваться и бежать и прятаться где-нибудь, пока ещё голова способна владеть ногами, но затем вдруг робкая, слабая, меркантильная надежда, твердившая, что и теперь с ним ничего страшного не случится, и что в следующий же день будет и кредит и машина, захватила и стала удерживать Радика, и удержала-таки на месте. Бутылка обрушилась на него сверху. Падая, фюрер испытал удивление оттого, что шампанское которому по всем законам сервировки должно было лежать во льду, оказалось горячим и жгло голову. Дотронувшись до того места где жгло и поднеся затем руку к глазам, Вяльба увидел кровь вместо шампанского и только тогда потерял сознание...
Очнулся он в гримёрке совершенно один и первым делом взглянул на часы. Было без пятнадцати шесть. Он нехотя поднялся, закурил, ощупал забинтованную башку. Башка ухала, словно колокол. В кармане он обнаружил помятую пачку денег — весь свой выигрыш. Двадцать восемь тысяч рублей. Деньги эти уже не вызывали в нём той жуткой радости, но воспринимались как результат нечеловеческой работы, которую он ответственно выполнил. Так что он даже не без гордости пробубнил вслух:
— Хорошо вышло. Медынин бы не сыграл так... Да-а. Кишка тонка!
Двигаясь с необыкновенною осторожностью, Вяльба собрал в сумку одежду, в которой пришёл, и, спустившись этажом ниже, — в гриме и в кителе — попросил администратора отворить ему двери. Администратор поблагодарил его за участие, передал от Антоши просьбу не обижаться, а вприбавок — бутылку «Jack Daniel`s». Радик отмахнулся от него, как от привязчивой мухи, погладил больную голову, и побрёл к стоянке такси, фраппируя своим видом мирных пейзан.
Для того, чтобы оставлять комментарии, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться в системе.
-

-

захватило действо, прямо таки сжымался весь, сопережывая гэрою..
"на выходные в «Девятом Круге» сядут пьянствовать очень бедные дядьки" - точно бедные?
1 -
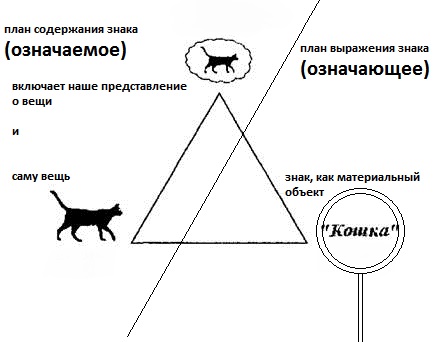
-

-

-
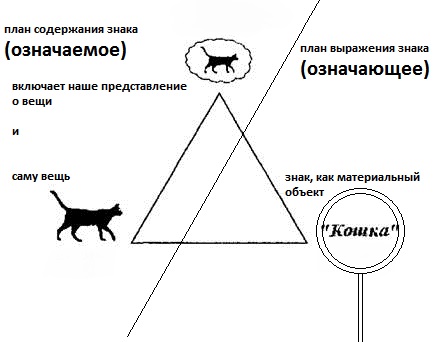
-

