Облачный город
Невесёлый выдался день. Я подолгу лежал в кровати, потом вставал, начинал ходить из угла в угол и снова ложился, и всё никак не мог придумать себе занятия. Было сумеречно, хотя стрелки часов едва пересекли полуденную отметину. С самого утра город заливало дождём и я всё время слышал плеск воды под колёсами машин, лёгкий звон стёкол в расшатанных рамах, чей-то усталый говор в общей кухне и тихий скрип половиц у себя в комнате. Скучно.
В половине пятого я задремал. Очнулся через сорок минут, хотя сначала показалось, что проспал целые сутки. Потирая розовое с рисунком от покрывала лицо, сел на кровати и потянулся, ушел в коридор, покурил, вернулся назад. Дождь поутих за это время, но небо по-прежнему застилали мутные осенние облака. Мир ещё более упрочился в безнадежности, потемнел и сгнивал.
Внизу, под окнами нашей общаги, шёл реденький строй автомобилей; рядом, выбирая места посуше, прыгал мужик в униформе «Горводоканала». В правой руке — батон колбасы, в левой — бутылочка. Дежурный слесарь, наверное. Смена у него кончается, сигналов нет, и вот он, прикупив водки в ближайшем ларьке, возвращается на участок. Под светофором мужик замешкался на секунду, а пёс, бежавший следом, выхватил у него колбасу. Дальше — в очередь — неудавшаяся погоня, падение в лужу, крепкий мат, плевки злого разочарования.
А я смотрел равнодушно и вспоминал давно умершего знакомого...
Он одно время занимал комнату против моей. Имя у него было странное — Богуслав, но обычно к нему обращались — Слава. Родители у него то ль поляками были, а то ли евреями, путешествовали по стране, работали с хищниками в передвижном цирке. Их на арене во время выступления убил лев. Славе ещё не исполнилось девяти годков. До совершеннолетия его определили в детдом, а у нас он появился, когда ему стукнуло двадцать четыре. По закону всем воспитанникам спецучреждений дают жильё после выпуска.
Слава был самый обыкновенный человек. Женщин не водил, дежурство по лестнице сдавал сам, существовал скромно. Работал он, кажется, чертёжником или кем-то навроде чертёжника. Увы, память не держит таких нюансов, оставляя лишь самое основное: все в нашей общаге знали, что он любил выпить и пил исключительно перцовую водку. Пьяненький, он появлялся ночью, а исчезал на рассвете. Я хорошо помню эти его появления: в сонной тишине вдруг проскрипят половицы, загремят ключи, услышишь пять-шесть аккуратных шагов и лёгкий хлопок двери; утром те же лёгкие шаги до умывальника, треск растительного масла в пустой ещё кухне, слабый шорох у входа и три поворота ключа в замке. В выходной Слава всегда запирался у себя, и тогда из его комнаты можно было слышать спокойную приглушённую музыку. В кухне часто посмеивались над ним: «Уж не робот ли среди нас? Придёт домой, пальцы в розетку сунет, полчаса и огурчик!» С ним даже и не заговаривали всерьёз — потому что не было удобного случая. И когда он пропал, никто этого не заметил.
Был февраль. Кто-то из жильцов ходил по этажу, собирая деньги на покупку новой сантехники, и не смог достучаться к нему. Стучались к нему и на другой день, на третий, но Славы каждый раз не было дома. Тогда все решили, что он уехал куда-нибудь и забыли о нём.
Хмурым мартовским днём перед домом остановился уазик с алыми буквами «Медслужба» вдоль борта. Привезли парализованного мужчину. Двое в халатах подняли его на носилках в комнату и перекинули на постель. Кто-то, расспросив санитаров, узнал что у Славы, как обычно сидевшего в рюмочной после работы, случился приступ: сердце остановилось. А потом уж и сам больной рассказывал о своих ощущениях в ту минуту. Он сперва и не понял что с ним, затрясся, присел на корточки, пытался говорить и ползти, затем отключился, но не умер, хотя и был близок к этому. Последствия оказались самыми неприятными. Половину тела, часть лица и правую руку скрутило намертво, обе ноги не слушались. Дальше инвалидность, пенсия, все дела...
Уже на другой день начались звонки из соцслужб. Пришёл человек, приволок какие-то документы, долго, но безрезультатно пытался начать разговор, потом позвал соседку, предложил ей ухаживать за больным. Та согласилась. Соседку все звали Вешенкой.
Прямо сказать, эта Вешенка была конченой дрянью. За то, что она взяла на себя обязанности по уходу, ей отвели почти всё пенсионное содержание Славы. Ей надо было готовить парализованному еду, убираться, стирать бельё и выливать за ним вёдра. Словом заниматься делами, которыми должна была заниматься сиделка, с той только разницей, что проверял её не частный наниматель, как это бывает всегда, а социальный инспектор. Помня об этом, первое время она работала безупречно, ещё две недели она совмещала работу с запоем, а потом уже стала на всё плевать и начинала что-нибудь делать только перед визитом проверяющего — слишком тяжкими для неё оказались заботы по уходу за Славой. Тот, однако, не жаловался. Не жаловался из скромности, а ещё из боязни «спецдиспансера для инвалидов», замечание о котором упустили как-то губы инспектора. Всё ему казалось мелочью, недостойной того, чтоб о ней рассказывать...
— Ничего... Помаленьку. — всегда односложно бормотал он, когда инспектор спрашивал о делах.
— Что-то пыльно здесь у тебя...
— Всё хорошо... Я сам не люблю, когда чисто.
— Ясно. Тебе что-нибудь надо?
— Да... Мне... Приносите мне книг... Только хороших.
Чтение стало его отдушиной. Лишь в мире вымысла он мог чувствовать себя хорошо. Да и чем ещё можно было б занять ему часы бодрствования? Из великого сонма писателей более остальных его увлекал Пруст, чуть менее Диккенс, но читал их он лишь тогда, когда за окном шли дожди или выла январская вьюга. Когда же окно отворялось, когда в него заодно с городской пылью летел тополиный пух, Слава просил себе Чехова и Тургенева.
Книги инспектор брал в местной библиотеке, а он получая, запихивал их под подушку и та постепенно вздымалась всё выше, открывая парализованному всё большее пространство для обозрения. Часто бывало так, что пролистав рассказ или повесть, Слава перекладывался на спину и подолгу разглядывал город, представляя себя то лошадью Вронского, то отвратительным насекомым с истлевшим яблоком в спинке, а то и последним, расставшимся с веткой листком, летящим по небу...
Окно. За стеклом, распирая высь чёрными трещинами ветвей, стоял старый тополь. Он закрывал собой ленту широкой и прямой Воскресенской улицы, которая, — это было заметно лишь в зиму, — тянулась очень далеко и, казалось, держала на себе своды небесные. Вся она была застроена многоэтажками, вся она двигалась да светилась по вечерам огнями автомобилей, реклам. Прямо под тополем, возле пешеходного перехода, там где останавливался городской транспорт, притулился киоск «Роспечати». Постоянно возле него толпились люди, целовались или скандалили, напивались, дрались, спали, проживая маленькую жизнь в ожидании такой же маленькой смерти, которой служил, всегда как бы случайно проходивший автобус.
— Ведь и я так жил, — говорил Слава, глядя на них, — ведь и я был как все. Проводил дни точно ожидалец с дурацким сканвордом на коленях, а теперь вот колени не слушаются и руки не действуют, да и сам я не могу больше всерьёз относиться к сканвордам...
Поначалу мы не догадывались, о том, к каким переживаниям подвигают его эти долгие бдения, и никогда, вероятно, того не узнали бы, не будь у чугунных труб отопления редкого свойства. Случайно или с намерением приложив ночью ухо к одной из труб, кто-то услышал длинные, по-настоящему страшные монологи, и вскоре каждый на этаже знал, из какой комнаты они текут и о чём повествуют, хотя Слава и старался, наверное, молиться неслышно. От безнадёжности, вложенной в эти горькие речи, в само их произношение, сжималось сердце.
— Для чего? — бормотал он ночами, — Ну, зачем? Я ведь лишнее существо, никому не нужный, урод. Для чего я живу, Господи? Зачем я остался? Если я жи-и-иву-у, — срывался в плач — Если я живу, значит и у меня... тоже может быть цель... Какая? Я не понимаю... Не понимаю.
Если утром кто-нибудь пытался заговорить, как он себя чувствует, что он испытывает, хоть о чём-нибудь, Слава молчал и просил оставить его в покое.
Всегда после ночных пыток, опираясь на локоть, с тем, чтобы испражниться в тазик или сунуть голову под кнопочку рукомойника, приделанного к спинке кровати, Слава хотел умереть или же ополоуметь, чтобы просто не понимать своих жутких страданий. Вода ручейками струилась по его шее, смывала горечь пота и слёзы, напитывала постель, стекала на пол, а он поворачивался к окну и задумывался над чем-то, или же аккуратно сдвигал подушку, брошенную поверх книг, и читал. К вечеру он звал кого-нибудь и просил убрать чтение, начинал ворочаться, нервничал, задевал трубу, а ночью повторялись всё те же безадресные упрёки, молитвы, тот же беззвучный плач, та же изматывающая бессонница... Мерзкое бытие, да. Что тут скажешь...
В день, когда ему исполнилось тридцать два года, спилили тополь, хлеставший ветвями по стёклам, и комната стала светлее, а по утрам от окна начал двигаться чёрный крест. Тусклые коробки домов, паззлом, одна к другой, стояли вдоль голой дороги, и часто, разглядывая этот пейзаж, больной с каким-то поддельным восторгом подумывал, что белое, с тёмно-синей подошвою, нагромождение из облаков, светившееся вдалеке, — продолжение Воскресенской.
В очередное посещение обычно равнодушный инспектор даже поразился, услышав вместо привычных монотонных слов, произнесённое с улыбкой, с надеждой в голосе, утверждение,
— Знаете... А ведь он существует... Я видел его во сне. Я думаю, что всё написанное здесь — Слава кивнул в сторону книги, лежавшей на подоконнике, — правда!
— Кто? О чём вы?
— Да нет... Не важно... — и тут же, слегка смущаясь, — Я имел ввиду город. Облачный город вдали...
Инспектор взглянул в окно, туда где сгрудились тяжёлые кучевые облака. И вздохнул:
— Мечтайте почаще. Всегда так легче переносить одиночество...
Однажды праздничным днём все мы собрались в кухне. Перебирали застольные песни, произносили тосты, слушали анекдоты, давились жратвой и хохотом. В суматохе никто не придал значения отдалённому шуму, никто не поднялся, услышав в коридоре слабые, тщательно сдерживаемые стоны. А немногим позже между гостей появился дворник:
— Ребят, там ваш... этот... короче, во двор выполз...
— Кто?
— Ну, урод ваш... Как его?!
Вешенка первая догадалась. Вспоминая чьих-то матерей, вскочила со стула. За нею очнулись и остальные.
Спустившись, мы нашли его ворочающимся на асфальте в нескольких метрах от дома. Складываясь телом, как гусеница, и отталкиваясь затем действующей рукой, Слава разбивал себе голову, пытаясь таким образом преодолеть тротуарный бордюр, оказавшийся на его пути. Малыши, испуганные, наблюдая это, оставили песочницы и качели и теперь толпились возле подъезда, старшие старались их успокоить. Два парня стояли на углу: курили и улыбались.
Я подошёл ближе и, помогая сбежавшимся переложить Славу на спину, почти случайно взглянул в исцарапанное лицо. Сглатывая пыль с кровью, Слава умолял не останавливать его,
— Мне нужно добраться туда... Я должен увидеть...
Насильно его напоили водкой. К вечеру он успокоился и задремал, но и во сне губы его шевелились, просясь по-видимому в последнее путешествие.
-

-

Культурный Шизофреник на счёт них не знаю. Лично не знаком. Но ты да. Ты Питер. Тот, что встретил меня в 2000 году.
1 -
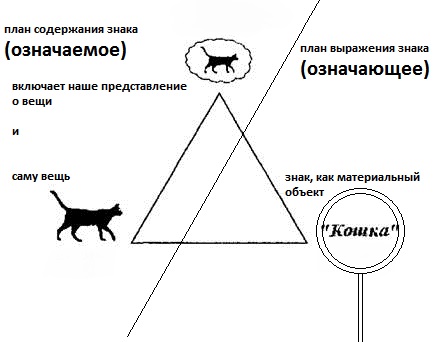 1
1 -

-

На меня такие рассказы действуют исцеляюще. В смысле, хорошо читать в упадническом настроении, жизнь сразу приобретает некий дополнительный смысл и краски. Такое вот
1 -
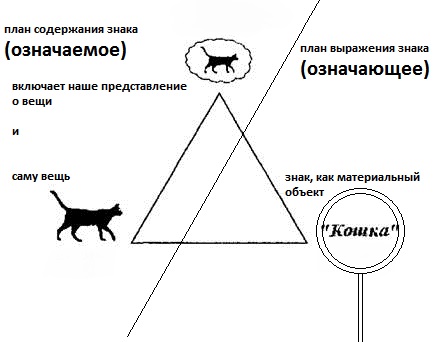
-

-

Спасибо Вам за рассказ. Мне очень понравилась Ваша манера. Я бы сказал, Платонов лайт, если хотите. Впрочем, не мне судить, но крутто!
1 -
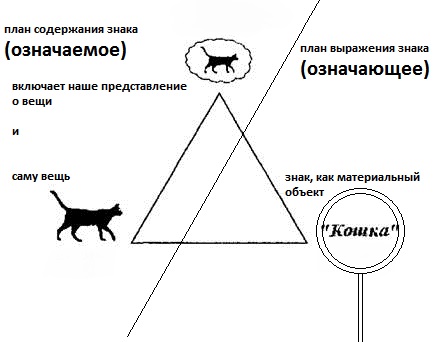
Неизвестный Исполнитель Спасибо) До Платонова - даже лайт - мне далековато...)
-

-
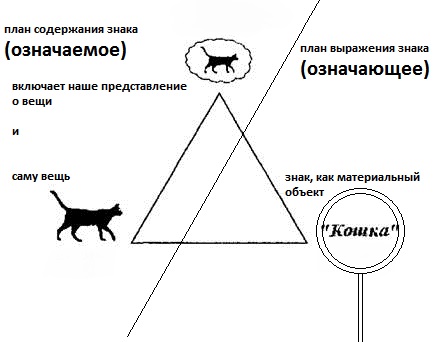
Неизвестный Исполнитель хорошщий текст) а мне ещё нравится "Мусорный ветер":
Альберт открыл глаза — сначала один глаз, потом другой — и увидел все в мире таким неопределенным и чужим, что взволновался сердцем, сморщился и заплакал, как в детском ужасающем сновидении, когда вдруг чувствуется, что матери нету нигде и вставшие, мутные предметы враждебно двигаются на маленького зажмурившегося человека…
1 -

-

Цифорка "1" в красном кружке всегда радует. Проходим по ссылке, и радость усиливается. Вернулся к Вашему рассказу. Надо сказать, циклодольная тема. В конкретном случае это комплимент. Обожаю просыпаться среди ночи и не понимать, гле нахожусь.
1
